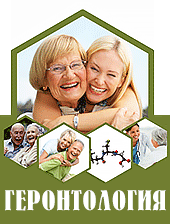
1. Позвоночные
Хотя данные, полученные для популяций птиц и мелких млекопитающих, видимо, привели к преувеличению значения доводов против "естественного" старения, доживание до старости, без сомнения, встречается сравнительно редко и жизненные циклы у позвоночных, изучаемых в полевых условиях, очень редко заканчиваются естественной смертью. То же самое наблюдается у человека при низком уровне медицины и экономики. Для многих видов животных характерна типичная кривая выживания: за высокой или очень высокой детской смертностью следует высокая смертность взрослых особей, которая не повышается с возрастом. Если даже эти животные способны стареть, они никогда не доживают до старости. Такой тип кривой многократно обнаруживался в популяционных исследованиях (см. [668]). В то время как у полевок, содержащихся в лаборатории, кривая выживания приближается к кривой выживания человека [706] (фиг. 52), в природных условиях у полевок [326, 518, 519] и у мышей рода Peromyscus [167], судя по состоянию зубов и костей современных и ископаемых форм, старение никогда не наблюдается (ср. кривые выживания для асцидий; фиг. 53). В некоторых популяциях полевок следует считать однолетними животными [326]. Стертость зубов служит надежным показателем возраста у короткохвостых землероек, которые в возрасте свыше 2 лет становятся беззубыми. Но такую механическую форму старения следует считать лишь потенциальным, а не реальным ограничением жизни, так как лишь немногие особи доживают до проявления подобных старческих изменений. В неволе эти животные могут жить до 33 месяцев [919].
![Фиг. 52. Сглаженная кривая выживания для полевки Microtus agrestis в неволе [706]](pic/000065.jpg)
Фиг. 52. Сглаженная кривая выживания для полевки Microtus agrestis в неволе [706]
Для птиц характерно линейное убывание с возрастом логарифма выживания. Оно обнаружено у черного дрозда, певчего дрозда, малиновки, скворца, чибиса [663-665], горихвостки [169], странствующего дрозда [337] и серебристой чайки [768]. В группе малиновок, окольцованных Лэком [663], 111 из 144, покинувших гнездо (77% ), погибли в первый год жизни. Это сопоставимо с максимальным зарегистрированным возрастом в 11 лет, который иногда достигается в естественных условиях. В последующие годы смертность оставалась постоянной (примерно 50%). Кривая выживания для чибиса (Vanellus vanellus), рассчитанная по данным для 1333 птиц, хорошо совпадает с кривой, соответствующей постоянной смертности 40% в год [640. 667]. Для большинства изученных птиц смертность, по-видимому, составляет от 30 до 60% в год. Значительно более низкие величины приведены для крупных морских птиц, таких, как баклан [636], у которого смертность падает от 17% в период до развития оперения до 4% в год в возрасте между 3 и 12 годами. Смертность у одного из видов альбатросов (альбатроса королевского- Diomedea epomophora) равна 3% в год. Такие птицы наверняка могут достичь старости, если продолжительность их жизни составляет 50 лет. Собрано значительное количество данных, главным образом в результате кольцевания, что продолжительность предстоящей жизни у некоторых диких птиц фактически с возрастом увеличивается, Хотя общее число вторично обнаруживаемых окольцованных птиц в Европе не превышает 10 000 в год, установлено, что несколько особей прожили дольше, чем можно было бы ожидать при сохранении уровня смертности, присущего молодому возрасту. Р. Перри [932] приводит следующие данные: дроздбелобровик (Turdus musicus) > 17 лет; щегол (Carduelis carduelis) > 16 лет; конек луговой (Anthus pratensis) > 13 лет; все это виды со средней смертностью около 50% в год [667]. Известны случаи поимки окольцованных скворцов (Sturnus vulgaris) через 18 лет. Вероятность того, что такие сведения случайны, крайне низка, если учесть, как мало птиц было окольцовано.
![Фиг. 53. Кривые выживания для трех групп асцидий, появившихся в августе (I), сентябре (II) и октябре (III) 1957 г. [139]](pic/000066.jpg)
Фиг. 53. Кривые выживания для трех групп асцидий, появившихся в августе (I), сентябре (II) и октябре (III) 1957 г. [139]
Аналогичная ситуация характерна для жителей Пенджаба, где, несмотря на очень высокую детскую и общую смертность, встречаются люди, доживающие до глубокой старости, а для людей среднего возраста продолжительность предстоящей жизни не меньше, чем для жителей Западной Европы [1294].
У ящериц в естественных условиях смертность с возрастом уменьшается [1062]; это согласуется с данными экологических исследований Стеббингса [1122, 1123], проведенных на Sceleporus graciosus. Оказалось, что значительную часть популяции (30%) составляют ящерицы в возрасте от 6 до 9 лет, что свидетельствует о снижении смертности с возрастом. В некоторых случаях снижение выражено еще резче. Чрезмерно высокая смертность в очень раннем возрасте у некоторых позвоночных может совершенно затемнить последующую тенденцию в таблице выживания, составленной на основе данных для когорты, взятой при рождении: у макрели, например [1065], выживаемость при длине 50 мм составляет меньше 0,0004%.
Имеется ряд явных примеров возникновения старения как закономерного явления в естественных популяциях животных (позвоночных и беспозвоночных) [130]. Мурье [839], исследовав черепа 608 баранов Далля (Ovis dalli), составил таблицу выживания, в которой смертность была минимальной в возрасте от 1,5 до 5 лет, а затем повышалась. Основной причиной смерти старых и молодых овец надо считать волков. У финвала, изученного Уилером [1264], смертность, по-видимому, увеличивается с 15-летнего возраста (у самок); наблюдаемое увеличение может быть, однако, артефактом, обусловленным неспособностью старых особей возвращаться с мест зимовки в те районы, где они могут быть пойманы и зарегистрированы. Многие крупные хищники и стадные яшвотные, вероятно, иногда доживают до старости в естественных условиях, хотя смерть должна, как правило, наступать очень рано в процессе снижения сопротивляемости. Очевидно, в популяционных исследованиях нельзя допустить a priori без предварительных данных о близких формах ни постоянную смертность в различных возрастах, ни ее увеличение с возрастом.
О нормальном старении человека - о его старении в "природных условиях" - можно рассуждать лишь абстрактно. Ведь с биологической точки зрения и современный горожанин тоже находится как бы "в природных условиях" (правда, после социальной и поведенческой адаптации), а между тем сколько самых разнообразных "искусственных" факторов оказывают на него неблагоприятное влияние. Древние и первобытные человеческие общества по характеру своего старения почти наверное напоминали популяции тех животных, у которых до старости доживают редкие экземпляры и у которых сила смертности несколько снижается в среднем возрасте. Такой тип старения, очевидно, можно встретить у общественных животных, у которых выживание нескольких богатых жизненным опытом особей, вероятно, имеет положительное значение для выживания группы в целом. У человека приспособление выразилось в развитии способности к абстрактному мышлению и к условиям жизни в обществе, а не в увеличении продолжительности жизни как таковой. Хотя можно предполагать, что в отдельных редких случаях первобытный человек доживал до тех лет, когда гомеостаз начинал снижаться с возрастом, но, как правило, он умирал под влиянием давления среды подобно овцам Мурье (см. [8393]). Из тех 173 индивидуумов, живших в эпоху палеолита и мезолита, возраст которых удалось определить, только трое (все мужчины) были, по-видимому, старше 50 лет, причем ни один не был значительно старше [1212]. Палеолитический человек (в Китае) обычно умирал насильственной смертью до достижения старческого возраста [1249]. В более цивилизованных обществах увеличение смертности с возрастом происходит не так быстро. Согласно Лэку [663, 668], кривая смертности, построенная на основании данных, приведенных на римских надгробиях [745], весьма сходна с соответствующей кривой для птиц. Данные Гуфеланда [538] и Зильберглейта (см. [1232]) (фиг. 9) иллюстрируют последующую стадию перехода к прямоугольной кривой выживания, характерной для современного человека в экономически развитых странах; много других примеров собрали Дублин и др. [307].
|
ПОИСК:
|
© GELIB.RU, 2013-2019
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://gelib.ru/ 'Геронтология и гериатрия'
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://gelib.ru/ 'Геронтология и гериатрия'